ИНТЕРВЬЮ С АРХИТЕКТОРОМ олегом шапиро
Мы работали в свое удовольствие. Это не было актом вдумчивого новаторства. Мы сделали то, что, как нам казалось, адекватно месту, времени, обстоятельству. То есть такое разумное использование отечественного материала.
»
Первый вопрос, с которого мне бы хотелось начать: как Вы стали архитектором? Как выбрали эту замечательную профессию?
Олег: Архитектором я стал совершенно естественным образом. Бывают дети, которые знают, кем они будут. Я родился в 1962 году. Мои дед, отец и мама были строителями, проектировщиками. И отец был довольно известным человеком в городе, а я родился в Самаре. Он был ГИПом, работал все время с архитекторами. В городе когда-то существовал Архитектурный фонд, все они друг к другу ходили в гости, что-то делали. То есть кроме так называемой основной работы, это была такая «сверхработа», которая проводилась через официальные архфонды. Я их всех знал. И решил быть архитектором. Даже не уверен, что я решил, это как-то решилось без меня.
А где вы учились? В Москве в МАРХИ?
Олег: Нет. Я учился в Самаре, там был архитектурный факультет. Он тогда был довольно сильный. Сейчас я не очень слежу, но, по-моему, он довольно интересный до сих пор. Надо сказать, провинциальные факультеты время от времени вырываются вперед, когда там работают интересные люди. Они не такие устойчивые, как МАРХИ, но зато это всегда определялось личностью педагога. В тот период это был Александр Григорьевич Головин из Москвы, считавшийся местным гением. А потом я был на стажировке полтора года в МАРХИ и закончил здесь аспирантуру. Москва - город большой. Самара, конечно, тоже, но сложно менять масштаб в обратную сторону, поэтому туда я больше не вернулся.
~

А как все начиналось? Как возник «Wowhouse»?
Олег: Сразу после окончания аспирантуры мы с товарищами организовали свое бюро, тогда это было представительство архитекторов. это были 1989-1990 годы. Уже при Союзе архитекторов дали возможность образовывать свои мастерские. Бюро называлось «Творческое производственное объединение чего-то…», «Мастерская чего-то…», и так далее. Потом я из профессии по разным причинам ушел в заработки, как мне казалось тогда. Мы с Димой Ликиным занимались, в основном, дизайнерской деятельностью. Но все время к нам обращались с просьбой сделать что-то архитектурное. И тогда мы решили, что надо сделать архитектурное бюро. Было это 11 лет назад. Мы вернулись в архитектуру, но при этом думали, что будем делать только то, что нам интересно, и будем делать не много. У нас будет небольшое бюро, человек 5 - 6. И делалось это не очень быстро. Мы сняли какую-то студию на Красном Октябре, и она год у нас простояла пустая, так как работа все не начиналась. А потом все пошло, сначала один проект, потом второй, потом какой-то покрупнее, и для него надо было больше людей, потом несколько проектов параллельно, и так далее. Все развивалось. Мы все придумывали сами. Нам было действительно интересно. И в какой-то момент ты обнаруживаешь себя в довольно большой группе людей, все архитекторы. И ты уже думаешь не только о том, чтобы проектировать, но и о том, чтобы все они получали зарплаты и еще что-то. И проектов у тебя уже не 2, а 30. И, главным образом, ты говоришь о проектах с заказчиком и уже давно ничего не придумываешь, сидя спокойно. Только по воскресениям я стараюсь никуда не ходить, быть за городом, и там придумывать что-то, смотреть, или читать. В результате, это превратилось в довольно большое бюро, у нас там человек 80.
~
Давайте по поводу дерева, поскольку портал посвящен дереву. Расскажите про то, как Вы пришли к тому, чтобы использовать дерево в своих проектах? Почему Вы обратились к этому материалу?
Олег: Первое интервью, которое у меня было, я не помню, в каком журнале, называлось «Здравствуй, дерево». Это получилось совершенно естественно. Никто никогда не думал, что вот сейчас мы возьмем и начнем внедрять новый материал в свою работу. Мы делали как раз Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Тогда он еще не был Институтом дизайна, а просто существовало место, где надо было что-то сделать. Этим мы занимались с Ильей Цинципером. Александр Леонидович Мамут, финансировал работу, он большой энтузиаст этого. Как раз Цинципер Илья придумал, что основной идеей проекта будет образование. Предполагалось, что мы сделаем место, в том числе для себя, где можно будет спокойно нормальным людям собираться, а не уворачиваться от автомобилей.
Да, благоустройств тогда не было совсем.
Олег: Это был город, конечно, не для людей. То есть, я бы сказал, античеловеческий город. И ничего не предвещало, что он станет другим. Развивался он, в основном, в направлении незапланированных торговых центров. Поскольку это была временная площадка, нам сказали, что через 3 года на этом месте будут строить гостиницу, что весь Красный Октябрь будет преобразовываться. Поэтому нам надо было сделать что-то, что было бы:
а) не дорого;
б) быстро возводимо;
с) просто по технологии.
Туда строители не могли заехать с какими-то большими механизмами. Нужно было сделать руками и довольно быстро. И у нас там был металл и дерево. Дерево, потому что его много, оно дешевое, оно красивое и оно красиво стареет. Там проектировали амфитеатр, а сидеть на дереве комфортнее. И вот мы, не особенно задумываясь над этим, спроектировали все из самого распространенного материала. К тому моменту, скажем, в Скандинавии очень много городских домов делалось из дерева. Чаще их вставляли, правда, такими декоративными элементами. Сейчас уже строят деревянные клееные многоэтажные дома. А тогда как-то так скромно, на заднем плане, в лоджиях. Это считалось экологичным. И мы это сделали. Это произвело на всех существенное впечатление: оказывается, довольно большое сооружение можно сделать в городе из дерева прямо в центре. Параллельно мы еще делали Оливковый пляж. Он тоже из дерева. Мы подумали, что это пляж, где никто не купается. Но, тем не менее, пляж, люди будут загорать, вроде как и водичка была. Мы придумали сделать там условные дюны. Ну, а на чем можно вообще лежать? Песка же там нет, и не будет, то есть не настоящий пляж. На бетоне, вроде, лежать тоже странно. А вот на дереве загорать приятно. Эти два сооружения мы делали одновременно. А потом он засеребрился еще. Оказывается, была такая немецкая жидкость, которой можно было все покрасить, и появлялось вот это серебрение за счет вымывания мягких структур у дерева, волокон. Дерево становилась таким приятным, серебристым не за год, а за три недели. Тогда просто мало кто ее использовал. Потому что считалось, что, это же «грязное» дерево. На следующий летний сезон мы заметили, что человек, который убирал «Стрелку», пытался вот эту всю «серость» смыть, смыть самое ценное.
Нам все это нравилось, мы работали в свое удовольствие. Это не было актом вдумчивого новаторства. Мы сделали то, что, как нам казалось, адекватно месту, времени, обстоятельству. То есть такое разумное использование отечественного материала.
а) не дорого;
б) быстро возводимо;
с) просто по технологии.
Туда строители не могли заехать с какими-то большими механизмами. Нужно было сделать руками и довольно быстро. И у нас там был металл и дерево. Дерево, потому что его много, оно дешевое, оно красивое и оно красиво стареет. Там проектировали амфитеатр, а сидеть на дереве комфортнее. И вот мы, не особенно задумываясь над этим, спроектировали все из самого распространенного материала. К тому моменту, скажем, в Скандинавии очень много городских домов делалось из дерева. Чаще их вставляли, правда, такими декоративными элементами. Сейчас уже строят деревянные клееные многоэтажные дома. А тогда как-то так скромно, на заднем плане, в лоджиях. Это считалось экологичным. И мы это сделали. Это произвело на всех существенное впечатление: оказывается, довольно большое сооружение можно сделать в городе из дерева прямо в центре. Параллельно мы еще делали Оливковый пляж. Он тоже из дерева. Мы подумали, что это пляж, где никто не купается. Но, тем не менее, пляж, люди будут загорать, вроде как и водичка была. Мы придумали сделать там условные дюны. Ну, а на чем можно вообще лежать? Песка же там нет, и не будет, то есть не настоящий пляж. На бетоне, вроде, лежать тоже странно. А вот на дереве загорать приятно. Эти два сооружения мы делали одновременно. А потом он засеребрился еще. Оказывается, была такая немецкая жидкость, которой можно было все покрасить, и появлялось вот это серебрение за счет вымывания мягких структур у дерева, волокон. Дерево становилась таким приятным, серебристым не за год, а за три недели. Тогда просто мало кто ее использовал. Потому что считалось, что, это же «грязное» дерево. На следующий летний сезон мы заметили, что человек, который убирал «Стрелку», пытался вот эту всю «серость» смыть, смыть самое ценное.
Нам все это нравилось, мы работали в свое удовольствие. Это не было актом вдумчивого новаторства. Мы сделали то, что, как нам казалось, адекватно месту, времени, обстоятельству. То есть такое разумное использование отечественного материала.
~
Я, на самом деле, являюсь фанатом Крымской набережной, это классное пространство. Все мои друзья, «мархишники», с удовольствием проводят там время. Как Вам удалось это провернуть?
Олег: Это было даже смешно. Надо сказать, что при Юрии Михайловиче Лужкове архитектурные заказы распределяли довольно специфическим способом. Если ты не из Моспроекта, значит, ты никто. Но мы чувствовали себя уверено, бодро, все-таки нам было уже лет 10. Мы придумывали что-то интересное время от времени. А по набережной тогда было невозможно ходить. Ну, потому что там была такая узенькая дорожка. А там и машины, и люди. В общем, зимой можно было попасть под машину, было все плохо. И мы предложили Артему Кузнецову, тогдашнему акционеру и управляющему «Good development», сделать мостки снаружи. То есть в сторону Москвы-реки сделать параллельные мосты из металла.. В это время, параллельно c Красным Октябрём, мы занимались Парком Горького, и наши ребята на велосипедах ездили на авторский надзор по набережной. А там зимой городской снег сваливали и сидели художники, которые торговали своими изделиями. И все, больше ничего не было. Мы решили все это нарисовать. Поскольку мы Парком Горького занимались под предводительством Капкова Сергея Александровича, он сначала был директором, а потом это стало для него флагманским проектом, то в какой-то момент принесли ему свои идеи. Он говорит: «Можете нарисовать нормально?». Мы нарисовали нормально, и он, оказывается, понес все мэру. И там все это дело понравилось. Образовался Общественный совет по общественным пространствам. Мы там были членами. И вот на первом заседании надо было что-то говорить. А у нас было два таких проекта: реконструкция и объединение Бульварного кольца и Крымская набережная. Решили строить и то и другое. Это было в январе, а дальше, в марте, нам говорят: «Все, отлично. Надо, чтобы в сентябре она была готова». Мы спрашиваем: «В сентябре следующего года?», а нам: «Нет, в сентябре этого года». А у нас не было проекта. То есть были какие-то картиночки более и менее понятные. Никто же не знал, что должны быть досрочные выборы. А это был, собственно говоря, предвыборный проект. Во-первых, его сделали. Во-вторых, его сделали довольно роскошно по деньгам. И поскольку Петр Павлович Бирюков первый раз этим руководил, и довольно жестко, а это было не привычно, то там были реальные права для архитекторов. То есть мы могли приостановить стройку, потому что не тот камень, и камень меняли. Там же у нас еще был фонтан, который оказался бесконечно сложным, технологически. Мы этого не знали. Мы-то нарисовали его так, как видели. Но все сделали. Здесь была заброшенная территория, и ничего не было. И мы не понимали: вот сейчас сюда вбухают очень приличное количество денег, а зачем? Кто сюда пойдет? Это для нас была главная проблема, зачем людям туда идти. И вот мы довольно долго думали, что, собственно говоря, привлечет людей на этот кусок. Где, действительно, он должен соизмеряться с какой-то частью города. И мы придумали такой ландшафтный аттракцион. И надо сказать, что когда это только достраивали, еще надо было недели три, наверное, строить, а народ уже туда прямо хлынул. И там были ограждения, но это никого не смущало. Там мы деревья укрепили так, чтобы на корнях не ходили, придумали специальную конструкцию. Эти липы привезли, в неурочное время, их сажали в августе. Хотя и из немецкого питомника. Сейчас нормальные немецкие питомники уже ничего не выдают. А эти липы привезли в августе, посадили. Вокруг них еще пилили, они стояли в абсолютной пыли, жалко их было. Но они вентилируются у нас, они подпитываются, их корни защищены. В общем, сделано все так, как должно быть везде. Но с тех пор нигде подобного нет. Дороговато для наших зеленых братьев.
Да, точно. Мне очень нравится, что вот эту Крымскую набережную пытаются повторить другие города. Это огромный успех Вашей реализации.
Олег: Это да. И мы делаем набережные с тех пор. Но и многие другие делают. Я тут недавно в Севастополе увидел набережную, которую мы нарисовали для Парка Горького в то время. Смотрю, что-то знакомое, просто она. Но нет, чуть грубее. Мне кажется, хорошо запускать какие-то такие истории. В конце концов, после катка в Парке Горького все захотели подобные катки. А после кинотеатра «Пионер» все захотели открытые кинотеатры. Это были какие-то удачные обстоятельства.
~
А можно Вас спросить про что-нибудь такое неудачное? Есть какие-то негативные истории, связанные с деревянными технологиями?
Олег: Вероятно, были. Я сейчас не помню. Все, что делается из дерева, это довольно «нежная» конструкция. Это, конечно, ремонтируется, имеет нормальную эксплуатацию, не дорогую. Но в какой-то момент она, конечно, уязвима. И важно, чтобы это было качественное строительство. Почему-то все думают, что это не очень дорогой материал, что это довольно дешево. Это не так. Хорошая конструкция из дерева с металлическими нормальными узлами не дешево стоит. И когда где-то на расстоянии от Москвы по нашей концепции что-то строят, то не всегда получатся хорошо. Потому что происходит это не в Москве. Денег у людей не много, поэтому больше чем на концепцию нас, чаще всего, не нанимают. Дальше местные дорабатывают, а еще есть местные строители. Все-таки в Москве культура производства другая. И потом, если это какой-то парадный объект, то, как я уже говорил, там архитектор вдруг приобретает некоторые права, которые обычно он не имеет. Это должен быть либо девелопер, который понимает, что все должно быть качественно сделано, иначе он просто не продаст. Либо это такая парадная штука, которой должен руководить опытный чиновник, железной рукой. А ведь чаще всего этого не происходит. То есть происходят двойные, тройные, какие угодно потери. Сначала на проектировании, потом на реализации. И некоторые наши проекты мы просто не узнаем. У меня один раз был момент, я не назову город, потому что потом там все получилось на самом деле хорошо. Мы приехали, нас приводят куда-то и говорят:
- «Ну, вот»
- «Что вот?»
-«Мы построили»
- «Что построили?»
- «Вот, по вашему проекту»
Вообще ничего общего. Это не обязательно дерево, может быть, что угодно. Но дерево довольно технологичный в этом смысле материал. И как только мы его вводим в общественное пользование или пространство, то ко всем своим чудесам, оно, конечно, требует еще и довольно качественного производства. Если его нет, то ничего нет. Будут дрова какие-то стоять. Могут рассыпаться еще. Так бывает, к сожалению. Не очень часто.
- «Ну, вот»
- «Что вот?»
-«Мы построили»
- «Что построили?»
- «Вот, по вашему проекту»
Вообще ничего общего. Это не обязательно дерево, может быть, что угодно. Но дерево довольно технологичный в этом смысле материал. И как только мы его вводим в общественное пользование или пространство, то ко всем своим чудесам, оно, конечно, требует еще и довольно качественного производства. Если его нет, то ничего нет. Будут дрова какие-то стоять. Могут рассыпаться еще. Так бывает, к сожалению. Не очень часто.
Мне очень нравится на ВДНХ Ваша эко-ферма, вся история с этим зоопарком и вообще с парком. Как это все удалось сделать? И так качественно, красиво. И в какие сроки все это произошло?
Олег: Это строилось два года. Первую очередь, нижнюю, за один год и вторую очередь тоже за год. Там у нас были довольно большие провалы по надзору. И там с водой отчасти работала местная компания ВДНХ. А все остальное мы. Это было начало ВДНХ, когда ее отдали городу, и там заасфальтировали все по-быстрому, чтобы было чисто, и поставили светильники. Никто не понимал, чго теперь делать со всем этим. Ни достижений, ни народного хозяйства, ничего нет. А вот в конце парка было какое-то странное заведение. Знаете, когда там разводят рыб, потом их вылавливают и тут же жарят. В общем, мы их выгнали. Запах был ужасный. Поэтому всю эту акваторию почистили. Там всегда были какие-то сельскохозяйственные чудеса. Там есть какие-то собачьи вольеры, питомник. Есть ферма для городских детей, которые могут прийти посмотреть, что такое домашние животные, пообщаться. Там есть специальная кухня, предполагалось, что дети могут нарезать еду, а потом кормить этих животных, и так далее. Там можно организовать рыбалку, это в первую очередь. И там есть огороды для интересующихся. И есть такой загончик, где родители с детьми могут делать из настоящих досок настоящий сарай. Делают они его, потом ломают, потом что-то еще строят. Такая вот настоящая жизнь. А на втором уровне другая жизнь, которая дает возможность экономически существовать этому всему делу и жить зимой. Там есть обучающие мастерские, такие вот арочные. И там есть оранжерея и кафе. Мы еще считали в тот момент экономическую модель всего проекта, для этого приглашали специалистов, конечно. Имелось в виду, что это уже не ВДНХ. ВДНХ платила, а вот дальше эксплуатируют другие люди. Они должны платить аренду и существовать в экономическом мире, не в убытке. Еще кормить животных. Вот это все мы сделали, и она вот такой стала. Проекты, как ни странно, никогда не приходит в одиночку. У нас был один довольно мучительный по разным причинам проект детской части Московского зоопарка. Зимой открылся, мы подумали, не повезло: ну, кто зимой пойдет. Посмотрим, как он работает. Там были разные строители, большей частью крайне неудачные. Но последние там много что спасли. Мне кажется, что это тоже интересно. Это такая тема взаимосвязи. Там тоже мы придумали, что будет, по сути дела, не зверинец, а образовательный центр, где параллельно играют. Животные играют, дети играют, дети что-то познают. Там есть места для обучения, есть кафе, много чего. Долго об этом думали, с биологами говорили, местными. Мы там построили горку для козлов.. Не знаю, посмотрим, будут ли они там играть или нет. Наверное, должны..
Проект классный, я его видела, конечно. А что сейчас у Вас происходит?
Олег: У нас сейчас есть московские программы. И только что закончили большой парк «Учкуевка» в Севастополе. Мы пятый год уже делаем Политехнический музей. Ну, вроде бы, его скоро должны открыть. Нижнюю часть в виде парка открыли. Там есть много чего неправильно сделанного, но, тем не менее, выглядит это пока довольно пристойно. То есть там архбетон не вполне архбетон. Но опыта у людей было немного, к сожалению. В Севастополе сейчас открылась «Большая морская». Там три улицы, которые образуют историческое кольцо, «Большая морская» - одна из улиц, и она уже готова.
Мы много делаем для большой коммерческой недвижимости, например для «Донстроя», У них есть большие территории, которые сейчас правильно делать с комфортной средой.
Участвуем в конкурсах, в Тобольске. Вот сейчас сделали «Александровскую набережную». Даже не набережную, а «Александровский сквер». Это в Нижнем Новгороде, рядом с Кремлем. Правда, это пока только концепция. У них сейчас 800-летие, может быть, что-то удастся сделать.
«Архангельское» заканчиваем, музей-усадьбу. Там мы делали мастерплан, входные зоны, парковые территории и « возмещали» недостающие элементы современной музейной инфраструктуры: выставочные залы (музейного качества) , образовательный центр, оранжерею, места для еды и тд. Всё, кроме исторических домов, где музей-усадьба. А до этого мы делали мастер-план на развитие музея на 10 лет. Это правительственная программа к столетию музея «Архангельское», тоже юбилей. Ее возглавлял Козак, поэтому там довольно бодро все делалось. Минкульт все делал, занимался рестраврацией – это госденьги. А все, что мы делали, это на попечительские деньги: Сбербанк; ЛСР групп; фонд Вексельберга.
Мы много делаем для большой коммерческой недвижимости, например для «Донстроя», У них есть большие территории, которые сейчас правильно делать с комфортной средой.
Участвуем в конкурсах, в Тобольске. Вот сейчас сделали «Александровскую набережную». Даже не набережную, а «Александровский сквер». Это в Нижнем Новгороде, рядом с Кремлем. Правда, это пока только концепция. У них сейчас 800-летие, может быть, что-то удастся сделать.
«Архангельское» заканчиваем, музей-усадьбу. Там мы делали мастерплан, входные зоны, парковые территории и « возмещали» недостающие элементы современной музейной инфраструктуры: выставочные залы (музейного качества) , образовательный центр, оранжерею, места для еды и тд. Всё, кроме исторических домов, где музей-усадьба. А до этого мы делали мастер-план на развитие музея на 10 лет. Это правительственная программа к столетию музея «Архангельское», тоже юбилей. Ее возглавлял Козак, поэтому там довольно бодро все делалось. Минкульт все делал, занимался рестраврацией – это госденьги. А все, что мы делали, это на попечительские деньги: Сбербанк; ЛСР групп; фонд Вексельберга.
~
Класс! Но главное, что мне нравится, Вы вокруг себя создаете новое поколение, которое двигает все эти отличные идеи.
Олег: Да, я думаю, что нам с Димой лет больше, чем всем нашим сотрудникам вместе взятым (шутка).
Вы настолько их вдохновляете, что молодежь мечтает у Вас работать. Это распространенное мнение.
Олег: Мы ценим энтузиастов, надо сказать. И у нас средний возраст, я думаю, около 30 лет. Нам тоже интересно с ними.
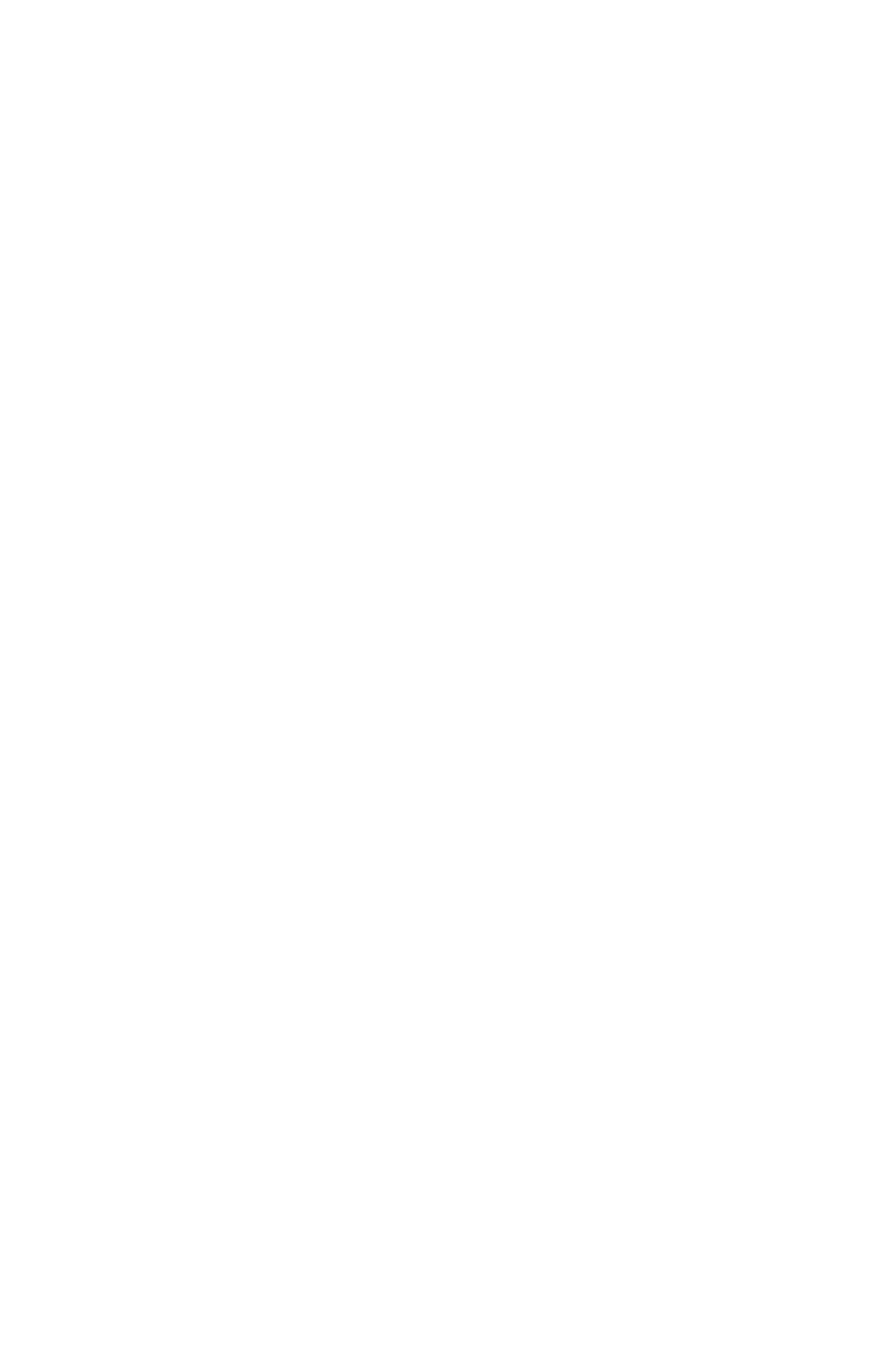
~
Еще такой вопрос, важный, мне кажется. Как Вы оцениваете ситуации с архитектурой сейчас в России?
Олег: Довольно оптимистично. Мне кажется, сейчас архитектура в России есть. Ее, конечно. больше в столичных городах, потому что здесь деньги. Я понимаю, что в провинциальных городах у архитекторов не много работы, а где-то вообще нет. У нас много выпускается архитекторов ежегодно. Может быть, не надо столько. Например, мы еще не Италия, но уже догоняем. Там больше денег тратится на архитектуру. У нас на архитектуру денег тратится мало, а вот людей с образованием выходит большое количество.
Мне кажется, что архитектура есть и в Москве, и в Питере, и в Нижнем, в Казани что-то строится. Другой вопрос, что большая часть объектов строится опять же в Москве и Питере. Но архитектура есть. Каждый архитектурный журнал заполнен очень хорошей архитектурой. Наверное, могло быть больше. Во всяком случае, такой тоски, как в 90-х годах, уже нет. Правда, время от времени приезжает какой-нибудь безумный девелопер и застраивает центр в провинциальном городе. Такой постмодернизм 78-84 годов, до сих пор это тоже есть. Но, в общем, везде есть нормальные архитекторы, которые адекватны, которые понимают все. Практики маловато. Будем богаче, будем больше строить.
Мне кажется, что архитектура есть и в Москве, и в Питере, и в Нижнем, в Казани что-то строится. Другой вопрос, что большая часть объектов строится опять же в Москве и Питере. Но архитектура есть. Каждый архитектурный журнал заполнен очень хорошей архитектурой. Наверное, могло быть больше. Во всяком случае, такой тоски, как в 90-х годах, уже нет. Правда, время от времени приезжает какой-нибудь безумный девелопер и застраивает центр в провинциальном городе. Такой постмодернизм 78-84 годов, до сих пор это тоже есть. Но, в общем, везде есть нормальные архитекторы, которые адекватны, которые понимают все. Практики маловато. Будем богаче, будем больше строить.
Я по поводу международного уровня. Почему русских архитекторов мало приглашают что-то значительное проектировать в другие страны?
Олег: Во-первых, гигантская конкуренция в архитектурном мире. И любой архитектурный процесс длительный. Мы все-таки находимся в локальном рынке, как ни странно. У меня есть несколько приятелей - лондонских архитекторов. Если нам нужно взять архитекторов, объявляем конкурс. Приходит 10 человек, 4 из них вообще с непонятно каким образованием, какие-то курсы, 4 ничего не умеют, а остальные просто не хотят работать. Когда, например, в Лондоне бюро объявляет вакансию, то со всего мира 200 человек присылают свои портфолио. Из них 50 человек очень хорошие. Там проблема выбора, а у нас проблема найти. Мы изолированы, и к нам не едут. Хотя у нас в бюро обычно каждый год кто-нибудь приезжает, либо на практику, либо прямо на работу. То итальянец, то немец, то ребята из Швейцарии, кто-то обязательно работает. Нас публикуют зарубежные СМИ, мы довольно упоминаемые. Но это для нас не часто. А для того, кто со стороны, это еще надо запомнить. Надо специально искать кого-нибудь из России. Тогда, наверное, на нас и наткнешься. Я думаю, что пока мы не в международном архитектурном рынке. Мы не в ЕЭС, нигде. Надо как-то преодолевать все это, но, похоже, не сегодня. Мы внутри страны, а вся страна отделяется от мира. Архитекторы тоже отделяются, что теперь нам остается делать, мы сопротивляемся. У нас с Димой была выставка в Берлине. Было интересно, какой-то народ пришел. Иногда мы выставляемся в Мюнхене, Гонконге, лекции читаем, нас приглашают. Это не проектирование. Мы несколько раз пробовали. Мы же участвуем в конкурсах, это не возбраняется. Пытаемся. Но здесь, с другой стороны, рутина. много работы. В этой стране можно что-то сделать, только надо делать очень быстро. Если долго думать, то уже никому будет не нужно, оказывается.
Согласна.
Олег: В нашем бюро работают многие молодые ребята, которые учились сначала в МАРХИ , а потом заканчивали свое образование в Европе или в Америке. Это дает им многое, с ними интересно, и они много, что умеют.
Вот вам удалось популяризировать дерево с точки зрения благоустройства. Можете «пролоббировать» этот материал и конструкции в обычном домостроении, что происходит с частным строительством? Наш соотечественник все-таки предпочитает каменные дома.
Олег: 10 лет назад деревянный дом за городом считался не престижным, лучше считались каменные. Если дом щитовой, то его можно проломить, хотя зачем ломать дом?! Брусовые дома казались странностью или удешевлением. А сейчас довольно много людей строят загородные дома, по крайней мере, дома для себя, из дерева. Мне кажется, эта тенденция растет. Мы называем это экологическим сознанием, и это реальность. Что касается городских сооружений, то здесь все сложнее. Это быстрее бы двигалось, если бы у нас не было административных и нормативных ограничений. Прежде всего, пожарных. Это не простой вопрос. Ну и должны быть соответствующие технологии, это заводские вещи. Гораздо проще строить из кирпича или бетона. Ничего особо не нужно. Потому что городской деревянный многоэтажный дом - это все-таки технологически сложная вещь. Тебе надо его где-то на производстве сделать, при этом качественно, применить хороший утеплитель. Наконец сделать хорошую звукоизоляцию , чтобы не было слышно этажом ниже, буквально, как ты чистишь зубы. Это все возможно, но пока мы не очень дружим с технологией. Я думаю, что это вопрос ближайшего будущего. В мире, в городах, все больше строится деревянных домов. У нас этого материала много, было бы красиво и хорошо.
Как финны, шведы или норвежцы.
Олег: Конечно. Голландцы. Они делают большие многоэтажные дома, жилые в том числе. Это придет со временем. Пока это сложно очень, и не дешево.
Да, согласна. Нужны новые нормативы. У нас все упирается в нормативы, в пожарников.
Олег: Конечно. В этом-то и есть проблема. Но как-то она будет решаться, я думаю. Кто-то должен сделать первое движение.
Может быть, это будете Вы?
Олег: Будем пытаться что-то такое изобрести. Это интересно.
Спасибо огромное.
